
Одним из событий, которыми республика может гордиться, стала публикация профессора ЧГУ Андрея Голенкова в старейшем международном медицинском журнале «Ланцет» (Lancet). Сразу надо объяснить, почему это событие. В «Ланцете» практически не печатаются российские ученые, и то, что профессор из Чувашии стал автором статьи для этого журнала, конечно же, пока исключительный случай для республики.
Проект, в котором Андрей Голенков принял участие, был международным. Врачебное сообщество разрабатывало оптимальную модель оказания психиатрической помощи в стационарах. Эта тема весьма болезненна для докторов и их пациентов во многих странах. Особенное звучание она приобрела сейчас: постковидные осложнения, связанные с психикой, наблюдаются во всем мире. У большинства людей расстройства не относятся к «большой» психиатрии, но случается, что их состояние все-таки требует госпитализации.
— По-видимому, так сошлись звезды. Для работы в команде экспертов из разных стран мира нужно быть в теме, чтобы участвовать в научных дискуссиях и профессиональных опросах, читать и править статьи на английском языке. А у меня, как у эксперта по судебной психиатрии, уже были публикации в авторитетных международных журналах на английском языке. Это, думаю, и стало решающим фактором для предложения по сотрудничеству. И надо добавить, что заявленная тема мне была хорошо знакома, потому что разрабатывалась мною в докторской диссертации.
Это не первая работа, которую доктор выполняет в команде. В 2000-е годы группа московских специалистов занялась изучением эпидемиологических этнокультуральных психических расстройств. В то время не только ученых, но и руководство страны беспокоило большое число суицидов в нескольких регионах, и Чувашия оказалась в этом печальном списке. Андрей Голенков стал одним из первых, кто занялся этой темой на региональном уровне. Была разработана программа профилактики суицидов, над выполнением которой в республике работали психиатры, психотерапевты, психологи, наркологи, к ней подключились СМИ. И кривая, отражающая число самоубийств, пошла вниз.
А самое первое исследование, посвященное шизофрении, благодаря которому наш доктор увлекся наукой, было проведено еще в аспирантуре при Ленинградском научно-исследовательском психоневрологическом институте имени В.М. Бехтерева. Сам он уверен, если бы учился в аспирантуре при вузе, сейчас занимался бы в основном педагогической деятельностью, а не научными изысканиями, в центре которых шизофрения.
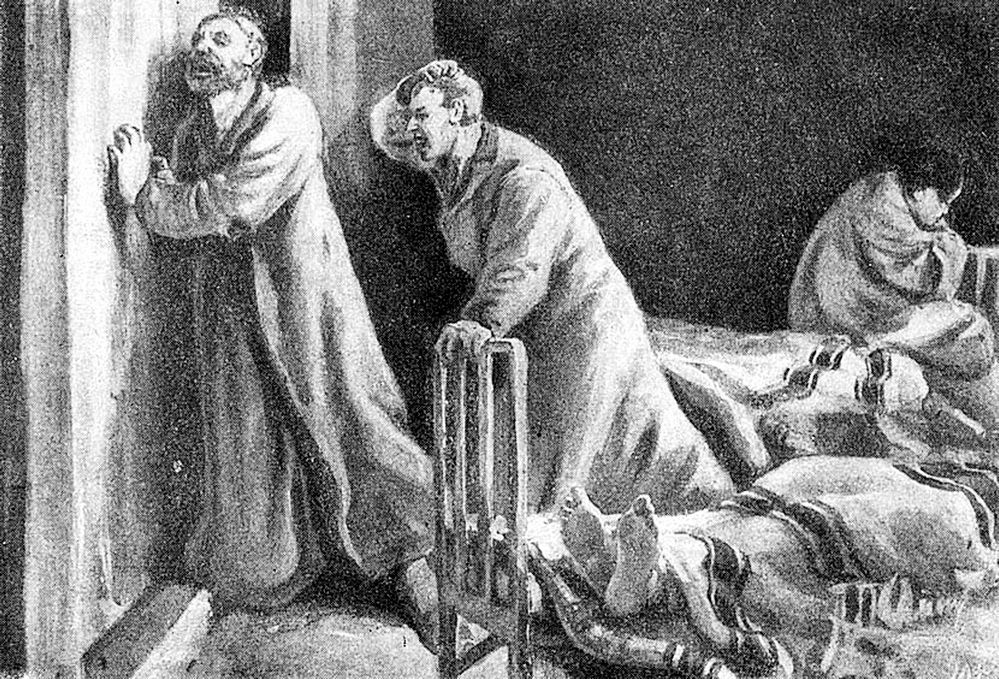
Со времен чеховской «Палаты № 6» медицина ушла далеко вперед, но знания о психиатрии большинством из нас почерпнуты у великого мастера слова. Это несправедливо по отношению к нам самим. Чехов, «Палата № 6», иллюстрация Александра Аспита.
Большинству из нас даже само название этой болезни внушает страх, и, наверное, трудно себе представить, что она может вызывать интерес. Однако ученые как раз и отличаются от остальных тем, что их внимание привлекает неизвестное и неизведанное. Шизофрения до сих пор не желает сдаваться на милость исследователям и раскрывать свои секреты. Врачи не могут увидеть галлюцинации, которые видят их пациенты, они не могут услышать голоса, которые вещают в головах больных. Потому не могут на этом основании оценить их и понять, что же мучает человека, нуждающегося в помощи. Приходится идти на ощупь, однако опыт накапливается, и дело медленнее, чем хочется, но двигается вперед.
По словам профессора, в 90-е годы в республике, как и по всей стране, среди тех, кто лежал в психбольнице, более 70% были пациенты именно с шизофренией. Сейчас ситуация стала иной: усовершенствовалась диагностика, а вместе с ней изменилась международная классификация болезней. Оказалось, что часть заболеваний, которые раньше диагностировались как шизофрения, ею не являются, и с появлением новых препаратов их лечат. Известная фраза из фильма про то, что голова — предмет темный и изучению не подлежит, с каждым годом теряет свою актуальность. Еще в конце прошлого века считалось, что шизофрения поражает 1% населения в любой стране мира. Но зарегистрированных случаев заболевания реально меньше.
— На самом деле человек боится всего, что ему мало известно. Это заболевание хроническое, тяжело поддается лечению, не просто снижает качество жизни, а приводит к инвалидности. Болезнь сказывается и на самом больном, и на его родственниках. Ну и в обществе существует стигма психических расстройств. Если вы спросите людей на улице, какие они знают психические болезни, то практически все назовут в первую очередь ее.
Действительность такова, что любой человек со странностями у нас может получить клеймо шизофреника, хотя он может быть абсолютно здоровым. Увы, многие из нас склонны ставить «диагнозы» другим, хотя, как уверяет профессор, далеко не всегда даже опытному врачу удается это сделать, что называется, с ходу. Приходится пациента обследовать, проводить тестирования, наблюдать за его поведением. Все потому, что болезни любят маскироваться. Есть такое заболевание, как биполярное аффективное расстройство, раньше его называли маниакально-депрессивный психоз. Бывает, что оно протекает таким образом, что ничем не отличается от шизофрении, и врачам приходится приложить немало усилий, чтобы в итоге прийти к правильному диагнозу. Случается и наоборот — у ребенка выявляют расстройство аутистического спектра, но с ростом малыша болезнь прогрессирует, и выясняется, что это шизофрения.
Профессор отмечает, что при легких расстройствах психики и пограничных состояниях многие молодые люди без стеснения обращаются и к психологам, и к психиатрам. И это на самом деле хорошо, потому что у них повышается качество жизни. Необходимость выбраться из астенического состояния после сильного стресса или купировать начинающуюся депрессию возникает практически у каждого человека.
Страх перед психическими расстройствами в нас держится еще и потому, что мы уверены — человек, не отдающий отчета в своих действиях, непременно совершит преступление. А есть ли связь между психическими расстройствами и преступлениями? Андрею Голенкову, врачу-эксперту в судебной психиатрии, знакома эта тема, он рассказывает, что у ученых были попытки найти зависимость между количеством больных в психбольницах и числом заключенных в тюрьмах. Поэтому весьма актуальна гипотеза, высказанная Лайонелом Пенроузом — отцом Нобелевского лауреата по физике 2020 года Роджера Пенроуза: если в тюрьмах содержится больше людей, то число больных в психиатрических больницах сокращается, и наоборот, как в системе сообщающихся сосудов.
За последние 20 лет в нашей стране сократилось и число коек в психиатрических больницах, и число заключенных (мест в тюрьмах). Это является какой-то новой, требующей научного объяснения закономерностью. В некоторых странах, например, Южной Америки, эта гипотеза работает, в странах Восточной Европы, бывших республиках СССР — нет. Так что все эти предположения ждут своих исследователей. Поиск оптимального числа коек для оказания психиатрической помощи является чрезвычайно важным вопросом в современных условиях, особенно в период пандемии.
К сожалению, страхов перед психиатрами все еще много, и бывает, люди до последнего тянут с обращением к врачу. Вот только один из примеров. Девушка три дня была в тяжелейшем психозе, но ее родители никуда не обращались, надеясь, что это само как-нибудь пройдет. Они боялись, что лечение в больнице испортит ей жизнь и снять «клеймо» психически больной, которое закроет перед ней все двери, уже не удастся.
Попытки «снять с дочки порчу» не помогли. Наконец, родители поняли, что уже не могут контролировать ситуацию, и вызвали «скорую». Они думали, что видят ее в последний раз, были уверены: из психбольницы ее уже не выпустят. Но препараты довольно быстро купировали приступ, и девушку выписали в очень хорошем состоянии. Прошло уже несколько лет, она дисциплинированно принимает выписанные врачами лекарства, успешно учится и работает. Более того, никто из ее окружения даже не подозревает о том, что у нее есть проблемы со здоровьем. Единственный, кому она рассказала о своей проблеме, — это жених: решила, что нельзя начинать совместную жизнь с обмана. Но его диагноз не напугал, они готовятся к свадьбе.